
«Зачем нужно снова строить?», — пишут, воскликнул один зампред Совмина в июле 1984-го, услышав о всё ещё не обеспеченной строительной готовности производства ВАЗ-2108. Да, для запуска «восьмёрки» потребовалось строить и строить — более 220 тысяч квадратных метров новых площадей. Удивляться не стоит, ведь это только со стороны освоение новой модели наивно так и выглядит: всё остаётся на своих местах, лишь станочники изучают хрустящие чертежи, наладчики монтируют на прессы свежеотфрезерованные штампы, в сварочные линии закладывают новую математику, бригады сборщиков обучаются изготовлению новых узлов, а на конвейере быстренько осваиваются пробные кузова (примечательно, что нынче-то сказанное во многом справедливо благодаря полувековому прогрессу станочной автоматизации и сборочной роботизации).
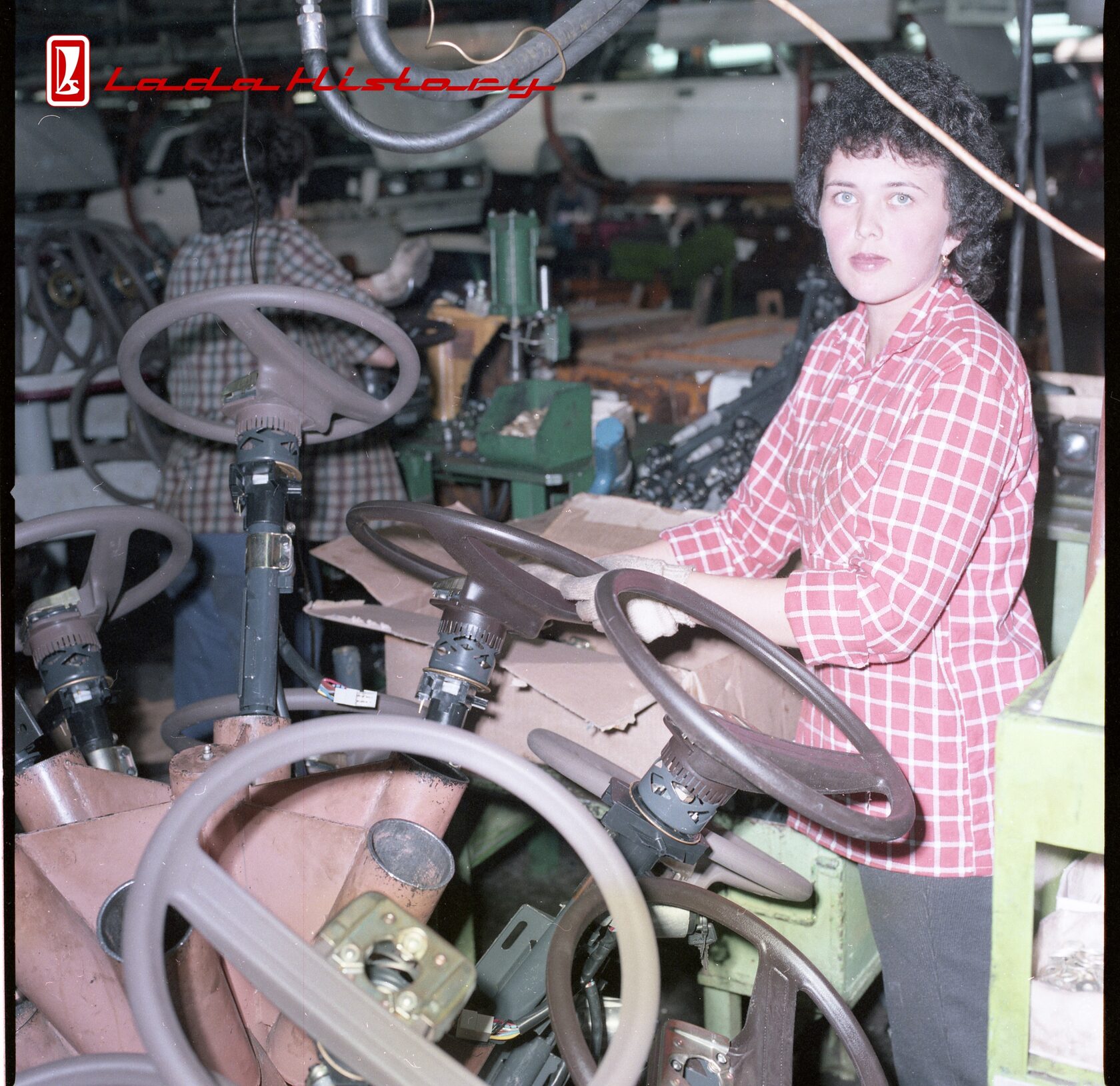
Но М.Н.Фаршатов недаром от истоков поддерживал переднеприводный проект с околонулевой конструкционной преемственностью: технический директор воистину технично тем самым оставлял фондам, закупленным в 60-е, удел мирно дорабатывать остающиеся «классике» годы, а под перспективную модель подводил колоссальное станочное пополнение — более двух тысяч единиц — которое предстояло разместить в нескольких новых корпусах, создав по сути ещё одно механосборочное производство. Как водится, сроки уходили вправо: у строителей (как впрочем, и у автоконструкторов), уже к середине 1982-го отставание от графика исчислялось не одним месяцем. Не выдержали темп и производственники: министр Поляков ещё весной 81-го называл подготовку производства «абсолютно неудовлетворительной», указывая на отсутствие оснастки.

Но даже его грозные разносы «продумать чрезвычайные меры на 1982-й год, чтобы автомобиль был в 1983-м» чуда не сотворили: например, летом 82-го Фаршатов влепил «персоналку» главным инженерам нескольких заводских производств за срыв контрактных сроков по приёмке оборудования. И если сам автомобиль по итогам 83-го технически был готов к выпуску, то заводские соцобязательства звучали покуда как лишь «обеспечить номенклатуру» всего и вся. А чтобы остроумно решить неостроумную задачу освоения 2108 без остановки главного конвейера, в сборочно-кузовном производстве пришлось построить «четвёртую нитку»: две временных «переходных» линии — сварочную, где вручную орудовали клещами, и 200-метровую сборочную, где можно было ежесуточно изготавливать лишь несколько десятков машин, зато в почти полном объёме требуемых операций.

План 1984-го обязывал выпустить на этом мини-конвейере хотя бы две тысячи автомобилей, однако и его выполнить не помогла даже откровенная штурмовщина (вплоть до отзыва на прессовое производство рихтовщиков в со станций «Автовазтехобслуживания»): с 19 декабря удалось собрать только пятьдесят пять серийных машин. Сказаны и написаны по этому поводу целые эссе, мы же укажем на такую яркую гримасу позднего застоя, свидетельствующую о бешеном интересе к новинке: одну из «восьмёрок» в тот год успели выкрасть прямо с территории завода!
Серийными, конечно, те «спутники» были довольно условно: в СКП тоже пришлось организовать цех мелких серий для доводки некомплекта. И тем не менее, пятимесячная работа мини-конвейера позволила освоить «ноль восьмую» в производстве примерно вдвое быстрее, чем куда как более сходную с предшественницами «ноль пятую» (соответственно, 96% и 65% оригинальности технологии сборки по сравнению с выпускавшейся тогда на первой нитке «ноль тринадцатой»). В итоге себестоимость сборки «восьмёрки» за 1985-й год снизили почти на две тысячи рублей, выйдя на проектную трудоёмкость уже вскоре после первых 25 тысяч машин (контракт с немцами, кстати, заканчивался именно на этапе освоения модели в серии). Но как только наладилась сборка, всплыла другая проблема: импортозамещение.
Серийными, конечно, те «спутники» были довольно условно: в СКП тоже пришлось организовать цех мелких серий для доводки некомплекта. И тем не менее, пятимесячная работа мини-конвейера позволила освоить «ноль восьмую» в производстве примерно вдвое быстрее, чем куда как более сходную с предшественницами «ноль пятую» (соответственно, 96% и 65% оригинальности технологии сборки по сравнению с выпускавшейся тогда на первой нитке «ноль тринадцатой»). В итоге себестоимость сборки «восьмёрки» за 1985-й год снизили почти на две тысячи рублей, выйдя на проектную трудоёмкость уже вскоре после первых 25 тысяч машин (контракт с немцами, кстати, заканчивался именно на этапе освоения модели в серии). Но как только наладилась сборка, всплыла другая проблема: импортозамещение.

Семьдесят процентов — такой, по свидетельству главного конструктора Мирзоева, была обыденная готовность к производству новых советских моделей к началу этого производства. Увы, но в тех экономических условиях не было лучшего кнута, чем священный ход конвейера, понукающий поскорее доводить до ума уже идущие по нему новинки. Ведь на внутреннем рынке вечный дефицит гарантировал терпеливый спрос, а в пользу внешнего играли как дополнительная (и серьёзная!) подготовка, так и по сути демпинг «Автоэкспорта», гнавшегося за численностью (не прибыльностью!) сбыта, что позволяло дилерам воспринимать советские машины как выгодные полуфабрикаты. Отказаться от подобных ущербных практик не могли ещё очень долго: в 90-е россияне с одной стороны вздыхали («ведь можем же!»), оценивая реэкспортные «самары», а с другой — проклинали аховое качество карбюраторных «десяток». Репутацию ранних 2108, как и 2105, подмочило ещё и по-первости урезанное оснащение, прикрытое постфактум их-де принадлежностью к комплектации «стандарт», естественно, более не встречавшейся. С другой стороны, большой процент импортного в первых «восьмёрках» (стёкол, шин, аккумуляторов, электрики) положительно в ту пору сказался на качестве: один впоследствии известный автоглавред, коему ещё молодым журналистом подфартило заполучить такой автомобиль, накатав за пару лет аж сто тысяч километров, смог припомнить единственный случай, потребовавший буксира — поломку пластикового наконечника привода сцепления (узел потом переработали, но втихую, без отзыва). К сожалению, «детские болезни», обнажающие проблемы отрасли, растянулись на целую пятилетку: даже в 1988-м около полутора сотен деталей 2108/09 изготавливались по обходным технологиям со всеми вытекающими последствиями — столь тяжело шло освоение отечественных аналогов. Да и освоенное зачастую грешило качеством — не секрет, что за удачу считалось увидеть на своей «самаре» венгерский коммутатор, а не советский. В итоге это семейство в определённом смысле официально оформило залог бытующего и посейчас пренебрежительного отношения к «ладам» — оно впервые в истории завода не было аттестовано на Государственный знак качества…
